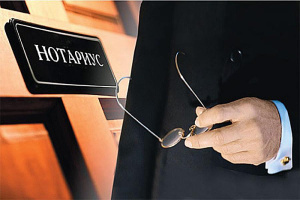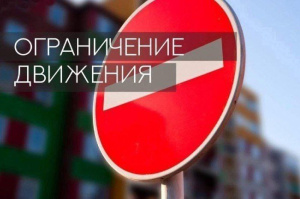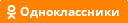31 октября / "Витьбичи" /. История преступления и наказания, о которой пойдет сегодня речь, по-своему уникальна для нашей рубрики «Без срока давности».
До сих пор мы знакомили читателей с теми архивными материалами управления Комитета государственной безопасности по Витебской области, где пособников нацистов привлекали к уголовной ответственности уже после окончания Великой Отечественной войны. Приговоры военных трибуналов и судов общей юрисдикции в отношении изменников Родины были разными — от 10 до 25 лет лишения свободы или расстрел как высшая мера наказания.
Всё зависело от положений законодательства на момент судебного разбирательства, характера выявленных эпизодов преступлений против человечности, иных обстоятельств. На этот раз всё будет иначе.
Пункт первый. Возмездие
Вопрос о привлечении германских нацистов и их пособников к ответственности за военные преступления был поднят в Советском Союзе уже в конце 1941 года. Приступить к активной работе в этом направлении правоохранительным органам до поры до времени не позволяла обстановка на фронте. Всё изменилось, когда началось освобождение советской земли, временно оккупированной врагом.
Президиум Верховного Совета СССР издаёт Указ от 19 апреля 1943 года № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».
Этот нормативный правовой акт советского уголовного и уголовно-процессуального законодательства учреждал при дивизиях Красной армии военно-полевые суды. В составе такого суда — председатель дивизионного военного трибунала (председатель военно-полевого суда), заместитель командира соединения по политической части и начальник особого отдела (члены суда). Обвинение поддерживал прокурор дивизии. Приговор, который утверждал комдив, приводился в исполнение публично и немедленно.
«В освобожденных Красной армией от немецко-фашистских захватчиков городах и селах, — говорится в указе, — обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками Родины из числа советских граждан над мирным советским населением и пленными красноармейцами. Многие десятки тысяч ни в чем неповинных женщин, детей и стариков, а также пленных красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены по приказам командиров воинских частей и частей жандармского корпуса гитлеровской армии, начальников гестапо, бургомистров и военных комендантов городов и сел, начальников лагерей для военнопленных и других представителей фашистских властей».
Мера возмездия, применяемая ко всем этим преступникам, явно не соответствовала содеянным ими злодеяниям. Об этом с довольно яркой эмоциональной окраской справедливо заявлял указ. Не «мера наказания», а именно «мера возмездия» — за все то, что сотворили нацисты на нашей земле и что не поддается никакому человеческому воображению даже спустя многие десятилетия.
«Имея в виду, — чеканил указ каждое свое слово, — что расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами и измена Родине являются самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Установить, что немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники Родины из числа советских граждан караются смертной казнью через повешение».
Нацистов, у которых руки по локоть в крови, и предателей старались выявлять сразу же, как только Красная армия очищала от фашистов ту или иную советскую территорию. Кстати, согласно «Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые преступления», изданной правительствами СССР, США и Великобритании 1 ноября 1943 года, немецкие военные преступники, исключая наиболее высокопоставленных лиц фашистской Германии, подлежали суду и наказанию в тех странах, на территории которых они совершали военные преступления.
Выбор иуды
В октябре 1943 года войска Калининского фронта успешно провели Невельскую операцию и тем самым создали предпосылки для развития наступления с севера на Городок и Витебск.
Спустя месяц офицер отдела контрразведки «СМЕРШ» 90-й гвардейской стрелковой дивизии провел первый допрос рядового 2-го батальона 159-го армейского запасного стрелкового полка Ивана Крюкова, подозреваемого в измене Родине.
В марте 1944 года старший следователь отдела контрразведки «СМЕРШ» 4-й ударной армии после допроса многочисленных свидетелей установил, что уроженец деревни Воскаты Городокского района Витебской области Крюков Иван Давыдович, задержанный в ноябре прошлого года при наступлении советских войск и мобилизованный в Красную армию, факты своей преступной деятельности скрыл. Крюкову было предъявлено обвинение по второму пункту Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года и статье 58-1 Уголовного кодекса РСФСР («Измена Родине»).
Второй пункт устанавливал ответственность для «пособников из местного населения, уличенных в оказании содействия фашистским злодеям в совершении расправ и насилий над гражданским населением и пленными красноармейцами», и предусматривал наказание в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет. После серии допросов обвинение Крюкову было переквалифицировано по первому пункту.
Отметим, что эти виды наказания нацистов и доморощенных коллаборационистов — повешение и каторжные работы — были уникальными для советской правовой системы и никогда не применялись ни до принятия Верховным Советом Указа № 39, ни после войны, когда военно-полевые суды прекратили свою деятельность. Масштабы злодеяний фашистских захватчиков и их пособников были столь велики, что вскрываемые многочисленные факты геноцида требовали соответствующей реакции правосудия, что называется, по горячим следам.
До войны Крюков проживал в деревне Мыльнище Городокского района. Работал в колхозе имени И. В. Сталина. Свой выбор он сделал, по всей видимости, уже 22 июня 1941 года, когда был призван защищать Родину. На вопрос следователя, почему не пробивался на восток, оказавшись в тылу врага при наступлении фашистов, дезертир Крюков, бывший партизан и дважды бывший красноармеец, ответил так: «Не желал служить в Красной армии и участвовать в боях с немцами. Я решил, что лучше жить дома».
Вначале он был рядовым одного из подразделений ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи — составной части войск противовоздушной обороны). После взятия Полоцка его отряд отступал в сторону Невеля и попал под вражескую бомбежку. Дезертир и без пяти минут предатель Крюков лесными тропками да перебежками по открытой местности вернулся домой, в Мыльнище. До июня 1942-го судьба дала ему передышку, а потом снова потребовала сделать выбор: группа советских граждан, включая Крюкова, была мобилизована партизанским командованием в Красную армию и направлена через «Суражские ворота» на Большую землю. В пути следования дважды дезертир Крюков опять сбежал. И теперь уже отсиживаться не стал, понимая, что рано или поздно по его душу все равно придут — или те, или другие. Со стороны фашистов к нему особых претензий не было: «наш человек». А вот со стороны советской власти уже накопился ряд вопросов. Да и то сказать: говорят, под Харьковом у Советов дела обстояли совсем плохо, а сейчас немец вообще к Волге рвется…
Он добровольно явился к печально известному Мордику, начальнику Городокской полиции, и написал заявление о поступлении на службу, дав обязательство — не по установленной форме, а своими словами, просто, от души — хранить верность фюреру и добросовестно выполнять приказы немецких и полицаевских командиров. В ноябре того же года пошел на повышение — стал помощником начальника Москаленятской волостной полиции.
Бои с партизанами, массовые грабежи населения, истязания и расстрелы советских людей, сжигание деревень. Во всем этом Крюков принимал личное участие, покрывая свои руки по локоть несмываемой кровью. Эпизодов, установленных по свидетельским показаниям и отчасти показаниям самого обвиняемого, множество. В январе 1943-го полицейский отряд под командованием Крюкова грабил дома в деревнях Чистики, Аниськи, Хвостки Городокского района. При этом он сам зверски избил сельчанина М. М. Кострицкого и его несовершеннолетнюю дочь. Выгнав людей на улицу, полицаи полностью сожгли Чистики (14 домов), Аниськи (11) и Хвостки (6). Крюков лично сжег 5 хат. Кроме того, вместе с полицаем Жмуйда расстрелял родственников партизан: Марию Семёнову, Агафью Тимофеевну Семёнову, Фому Игнатьевича Прокопенко.
Далее эти нелюди пригнали сельчан, лишившихся своих домов, в деревню Москаленята, где истязали людей, обвиняя в связях с партизанами. Лично Крюков избил Семёнова Герасима Семёновича.
В том же январе Крюков арестовал родственниц партизан из Москаленят — Марфу и Марию Киреевых. Истязал их, а потом расстрелял. Имущество женщин присвоил себе.
В феврале при участии Крюкова была арестована и после зверских истязаний расстреляна учительница из деревни Костяково Ксения Демидёнок. В тот же день Крюков зверски избил и ограбил Власову, жительницу деревни Беляи.
Тогда же, в феврале, в деревне Большое Кошо Крюков ограбил и расстрелял жену партизана Анастасию Осипову. Тело своей жертвы сжег вместе с домом. В той же деревне полицаи сожгли еще два дома вместе с надворными постройками.
В деревне Филимоненки полицаи с участием Крюкова арестовали и расстреляли временно проживавшего там военнослужащего Красной армии (фамилия не установлена).
Полицейский отряд под командованием Крюкова и Шкулева 19 февраля 1943 года вел бой против партизан в Москаленятах, во время которого полицаи убили жительниц деревни Е. Н. Тихонову и Е. Пузырёву. После боя полицаи учинили в Москаленятах массовый грабеж, сожгли 6 домов, 3 конюшни, здание сельпо и 9 колхозных построек. На следующий день Крюков и его команда расстреляли в деревне Семенюги родственников партизан: Михаила Боровского, Евдокию Фёдоровну Захарову и ее дочь Анну. Восьмимесячного ребенка Боровского полицаи сожгли…
Окончательный приговор
Следует подчеркнуть, что на общем фоне народного негодования, вызванного военными преступлениями нацистов и отморозков из числа предателей Родины, правосудие стремилось досконально установить каждый эпизод, с тем чтобы в каждом случае приговор соответствовал правовым нормам. С ноября 1943-го по май 1944 года велось следствие по делу Крюкова. Этот полицай не успел сбежать на запад — таким стремительным было наступление Красной армии на том участке советской земли, где он творил злодеяния. И свидетелей его преступлений нашлось предостаточно: на судебное заседание в этом качестве были вызваны Сидор Михайлович Боровский из деревни Семенюги, Фёкла Константиновна и Игнатий Фёдорович Киреевы из Москаленят и другие (всего 23 человека). Всё это говорит об объективности и юридической справедливости правосудия. Если же говорить о моральной стороне, то это вопрос всесторонней оценки в современном мире геноцида белорусского народа в годы войны.
Кроме того, тщательное следствие в отношении Крюкова позволило выявить многих, на кого пало подозрение в предательстве: в розыск были объявлены Н. П. Шкулев, В. И. Жмуйда, А. Г. Купреев, Б. Д. Кравченко и другие (всего 17 человек).
Военно-полевой суд 16-й Литовской стрелковой дивизии 11 мая 1944 года, рассмотрев дело Крюкова на судебном заседании, за совершенные злодеяния, предусмотренные пунктом 1 Указа Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, руководствуясь статьями 319 и 320 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, приговорил предателя к смертной казни через повешение. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — сказано в архивном документе. В тот же день перед строем советских бойцов иуду вздернули на виселице.
И еще один важный документ. Прокуратура Витебской области 18 апреля 1977 года, рассмотрев это уголовное дело, ставшее уже архивным, вынесла заключение: «Крюков Иван Давыдович реабилитации не подлежит».
Совместный проект газеты «Витьбичи» и УКГБ по Витебской области.
Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.